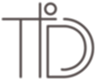Бернини прибрал к своим рукам кардинал Федерико Корнаро из старой аристократической династии. Корнарос были покровителями строгого ордена босоногих сестер-кармелиток, и планировалось построить семейную часовню, посвященную их знаменитой реформаторке святой Терезе Авильской. Бернини хотел – и воспользовался – шансом на оправдание. Конечно, помогло то, что Корнаро был готов выложить огромную сумму в 12 000 скуди на свою часовню.
Таким образом, Бернини мог бы, если бы захотел, сделать все возможное: он мог бы создать не просто скульптуру, но и впечатляющий архитектурный ансамбль (чтобы заткнуть уста критикам, которые говорили, что он не строитель), и, возможно, включить в него еще и немного живописи. Это мог бы быть театральный ансамбль всех искусств и, если бы все было сделано хорошо, то это стало бы величайшей драмой, которую он когда-либо создавал.
Тереза Авильская умерла в своей родной Испании более чем на полвека раньше, в 1582 году, но была канонизирована только в 1622 году.
Экстремизм, изгибы ее тела, графически описанные в ее автобиографии, те восторги, в которых она парила по стенам своей кельи, а монахини цеплялись за ее одежду. Может быть, все-таки это были фантазии неблаговидной истерички?
Тереза была жизнерадостной, упрямой и материальной девушкой, интересовавшейся одеждой, драгоценностями и парфюмерией. Ее отец, обеспокоенный всей этой мирской жизнью, поставил ее перед выбором между браком и монастырем.
Она выбрала последнее, хотя и не из-за непосредственного прилива благочестия: она слышала, что в монастыре больше, а не меньше свободы, чем в заточении жены испанского идальго. Будучи новичком, она все равно могла принимать посетителей, даже мужчин. Однако жизнь за монастырскими стенами оказалась менее общительной, чем она могла ожидать. Привычки были грубыми и черными, еда мрачной, молитвы неустанными. Поэтому Тереза сделала то, что делают злые подростки: у нее началась булимия, она пронзила пищевод оливковой веткой, ее рвало, она чахла.
Только когда ей исполнилось 40 лет и энергичная девушка превратилась в сестру средних лет, с Терезой произошло нечто ошеломляющее. Она провела весь день в молитве и начала петь гимн Veni Creator Spiritus – «Приди ко мне, Божественный Дух», – когда Он, конечно же, это сделал. «Восторг напал на меня так внезапно, что почти вырвал меня из себя. В этом не было никаких сомнений, потому что это было совершенно очевидно. Это был первый раз, когда Господь даровал мне благосклонность к восторгу. Я услышала эти слова «Теперь я хочу, чтобы ты говорила не с людьми, а с ангелами» - писала она потом.
Именно этот опыт невероятного телесного «подъёма», должно быть, прыгнул со страницы Терезы в воображение Бернини. Во многих боди-драмах Бернини было показано это мучительное восхождение: его юный Лонгин, выгибающийся на решетке; Хобот Дафны поднимается в небо. Вся его концептуальная философия скульптуры заключалась в освобождении от тяжёлой неподвижности.
Теперь настало время ему придать форму левитации Терезы, в отличие от Дафны, не в сопротивлении проникновению, а в жажде его, как она писала о своих восторгах:
«Очень близко ко мне... появился ангел в человеческом облике... он был невысокого роста... но очень красивый, и лицо его было так пылающим, что он походил на одного из тех высших ангелов, которые выглядят так, как будто они совсем как огонь... В его руках я увидел большое золотое копье и на его железном наконечнике как будто была огненная точка, я почувствовал, как будто он несколько раз вонзал это мне в сердце так, что оно проникло до самых внутренностей. Когда он вытащил ее, он, казалось, вытащил их вместе с ними и полностью воспламенил меня великой любовью к Богу. Боль была настолько сильной, что заставила меня несколько раз стонать. Невероятная сладость этой сильной боли настолько невыносима, что нет желания, чтобы это закончилось, и душа была удовлетворена не чем иным, как Богом. Боль не физическая, а духовная, хотя тело имеет в ней долю - на самом деле большую долю в ней".
Все, что Бернини делал до сих пор, должно быть, казалось репетицией этой чрезвычайно деликатной и трудной задачи. Чтобы возвысить Терезу, Бернини использовал еще один навык, который он доводил до совершенства на протяжении десятилетий: изменение текстуры поверхности. Облако, несущее святого, должно было быть грубо обработано не только для иллюзии таинственного пара, но и для того, чтобы блестяще отполированное тело и одежда сияли еще ярче. Удержать ее в воздухе означало бы выдолбить каменное облако и прикрепить его к стене часовни с помощью скрытых распорок и решеток.
Был риск, что все может сломаться, что может случиться еще одна катастрофа. Но это был ничтожный риск по сравнению с тем, на который решился Бернини, изображая лицо и тело Терезы. Как, в конце концов, выглядел восторг? Что, если бы он изваял эту женщину, которая сама осмелилась так наглядно описать свой опыт, словно в разгаре своего сексуального оргазма, совершенно отданную потоку ощущений, стремящуюся к своему духовному завершению, с неделимыми телом и душой? Кто осмелится бросить ему вызов? Он возьмет свои собственные обширные плотские знания, обретенные с помощью шоколада иезуитов и превратит их в священный шок.
Едва ли стоит говорить, что Тереза Бернини — это не монахиня средних лет, поднимающаяся по стене в своем облачении, как отвязанный воздушный шар, с монахинями, цепляющимися за подол.
Эта женщина незабываемо красива, под стать сияющему серафиму. Они в каком-то смысле пара. Мы видим ее обнаженную грудь, делаем вывод о ее неземной красоте. Как мог Бернини показать волну пылких чувств, охватившую Терезу? Здесь он имеет решающее концептуальное понимание всей драмы. Он выворачивает ее тело наизнанку, так что одежда — защитная одежда ее целомудрия, символ ее дисциплины — становится отражением того, что происходит глубоко внутри нее. Фактически, это сама кульминационная дрожь, штормовая волна ощущений, поднимающаяся и опускающаяся, как если бы мрамор был расплавлен.
Все, что есть в репертуаре Бернини, призвано создать то, что Бальдинуччи называет «bel composto» — прекрасное, идеально интегрированное слияние всех искусств: цвета, движения, света и даже ощущения небесного хора, льющего музыку на сцену.
И талант, за который его больше всего критиковали, тот, который вызвал его позор, - архитектура - становится в капелле Корнаро оправданием, брошенным в зубы его критикам.







Продолжение следует. Часть VII